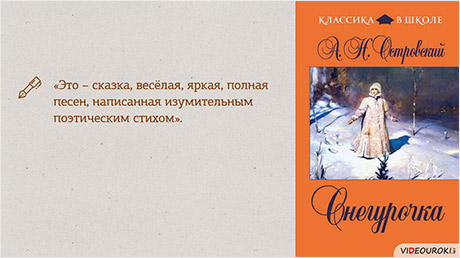Как вы понимаете жизнь берендеев
Опишите царство берендеев (см. внутри) Страна берендеев (климат, нравы, устройство быта и отношений)
В царстве Берендея люди живут по законам совести и чести, стараются не вызвать гнев богов. Здесь очень большое значение придается красоте. Ценится красота окружающего мира, красота девушек, цветов, песен. Не случайно певец любви Лель оказывается столь популярен. Он как бы олицетворяет молодость, пылкость, горячность.
Сам царь Берендей символизирует народную мудрость. Он прожил на свете немало, поэтому знает очень многое. Царь беспокоится о своем народе, ему кажется, что в сердцах людей появляется что-то недоброе:
В сердцах людей заметил я остуду
Немалую; горячности любовной
Не вижу я давно у берендеев.
Исчезло в них служенье красоте;
Не вижу я у молодежи взоров,
Увлажненных чарующею страстью;
Не вижу дев задумчивых, глубоко
Вздыхающих. На глазках с поволокой
Возвышенной тоски любовной нет,
А видятся совсем другие страсти:
Тщеславие, к чужим нарядам зависть
И прочее.
О каких ценностях думает царь Берендей? Его не беспокоят деньги и власть. Он заботится о сердцах и душах своих подданных. Рисуя царя именно таким, Островский желает показать идеальную картинку сказочного общества. Только в сказке люди могут быть так добры, благородны и честны. И это намерение писателя в изображении сказочной идеальной действительности согревает душу читателя, заставляет задуматься о прекрасном и возвышенном.
Действительно, сказка “Снегурочка” с увлечением читается в любом возрасте. А после ее прочтения появляется мысль о ценности таких человеческих качеств, как духовная красота, верность и любовь. Островский во многих своих произведениях говорит о любви.
Но в “Снегурочке” разговор ведется совершенно особым образом. В форме волшебной сказки читателю преподносятся великие истины о непреходящей ценности любви.
Идеальное царство берендеев живет так счастливо именно потому, что умеет ценить любовь. Потому-то боги так милостивы к берендеям. И стоит нарушить закон, оскорбить великое чувство любви, чтобы свершилось что-то ужасное.
Берендеево царство в «Снегурочке» А. Н. Островского: истоки образа
В статье рассматриваются реальные и мифологические истоки образа Берендеева царства, ставшего основой художественного воплощения идеала свободного гармоничного общества в «весенней сказке» А. Н. Островского «Снегурочка». Сопоставлены различные предположения и выводы фольклористов, краеведов, этнографов, литературоведов, связанные с этимологией слова «берендеи». Приводятся легенды и предания города Переславль-Залесский (о царе Берендее, Берендеевом болоте, «каменной бабе» и др.), очевидно, повлиявшие на поэтический замысел драматурга.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мифология; русский фольклор; этимология; русская литература; русские писатели; сказки; литературное творчество.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
THE KINGDOM OF BERENDEY IN A. N. OSTROVSKY’S «SNOW MAIDEN»: SOURCES OF AN IMAGE
Abstract. Article considers real and mythological sources of an image of the Kingdom of Berendey which has become a basis of artistic realization of an ideal of free harmonious society in «the spring fairy tale» of A. N. Ostrovsky «Snow Maiden». Authors compare various assumptions and conclusions of specialists in folklore, local historians, ethnographers, literary critics connected with etymology of the word «berende». Legends and legends of the city of Pereslavl-Zalessky (about the tsar Berendey, the Berendeevy swamp, «stone image», etc.), obviously, affected a poetic plan of the playwright are presented.
Keywords: mythology; Russian folklore; etymology; Russian literature; Russian writers; fairy tales; literary work.
ABOUT THE AUTHORS: Semukhina Irina Aleksandrovna, Candidate of Philology, Associate Professor, Ural State Pedagogical University.
Lubivaya Anastasia Jurevna, Graduate of the Institute of Philology, Cultural Studies and Intercultural Communication, Ural State Pedagogical University.
В драматургическом наследии А. Н. Островского «Снегурочка» (1873) заняла особое место, став своеобразным итогом творческих исканий писателя. В «весенней сказке» воплотились идеалы позднего периода творчества художника, его особая эстетическая концепция. А. Л. Штейн назвал пьесу русского драматурга чудом, поставив ее в один «ряд с такими поэтическими созданиями мирового театра, как комедии Шекспира и Аристофана» [Штейн 1973: 253]. Примечательно то, что сам А. Н. Островский, осмысляя специфику драматического искусства, обращался к опыту английского драматурга: «. интрига есть ложь, а дело поэта — истина. Счастлив Шекспир, который пользовался готовыми легендами: он не изобретал лжи, но в ложь сказки влагал правду жизни. Дело поэта не в том, чтобы выдумывать небывалую интригу, а в том, чтобы происшествие даже невероятное объяснить законами жизни» [Островский 1952: 321].
Оригинальность творения Островского обусловила исследовательскую полемику по вопросу жанрового своеобразия «весенней сказки», который остается актуальным и открытым по сей день: «стихотворная драма на сказочный сюжет» [Лотман 1989]; «романтическая мистерия» [Маньковский 2003]; «философско-символическая драма» [Чернец http]; поэтическая утопия [Гаркави 1969; Лотман 1989; Соловьева 2000]; синтетичный жанр, соединяющий фантастичность феерии, символизм «пьесы-маски», иронию комедии и глубокое содержание народной сказки [Ревякин 1974].
Особую роль в изучении «Снегурочки» играет не теряющая актуальности работа А. Л. Штейна «Мастер русской драмы» (1973), в одном из «этюдов» которой исследователем рассматривается история создания сказки, значение фольклора в воплощении принципа народности как основы реализма драматурга: «Через фольклор проникает Островский и в народную жизнь, больше того, в народную жизнь доисторической эпохи, и в этом ему помогает и обряд, и песня, и поговорка, и народное красноречие» [Штейн 1973: 260]. По словам ученого, Островский «создает поэтический стиль, в котором фантастика и психологизм, комедийные и трагические мотивы, быт и поэтический обряд, типическое и индивидуальное составляют неповторимое единство» [Штейн 1973: 264]. Намеченные в XX столетии векторы постижения идейно-художественного своеобразия «весенней сказки» находят свое дальнейшее развитие и сегодня, в современных исследованиях [см., напр.: Леонова 2001; Бурдакова 2008].
В «Снегурочке» Островского основой художественного воплощения идеала совершенного общества, где царит гармония, счастье, свобода и равенство, стал образ Берендеева царства. История создания пьесы драматурга и истоки образа царства Берендея тесно связаны со славянским фольклором.
Легенда о Берендеевом царстве уходит корнями в историю и этнографию города Переславль-Залесский. Сегодня о берендеях напоминают лишь название железнодорожной станции Берендеево (по дороге из Москвы в Ярославль) и Берендеево болото, которое находится на юге Ярославской области между несколькими деревнями и занимает площадь более пяти тысяч гектаров. В словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона упоминается, что в этом болоте «Александровского уезда Владимирской губернии», длина которого «10 верст, ширина 4-5 вёрст», «есть следы жилья; по местному преданию, здесь был г. Берендеев, где жил царь Берендей» [Брокгауз, Ефрон 1891: 525].
Кто же такие берендеи? Слово «берендеи» имеет совсем не сказочное происхождение. Переславский краевед В. Ф. Воронов утверждает: «Недалеко от Переславля-Залесского, ближе к границе с Владимирской землей, видны остатки древнего жилья, признаки дубовых мостовых, окаменевших от времени, черепки глиняной посуды, обсеченные камни — и все это из года в год затягивается болотом. Ученые полагают, что здесь некогда стоял город Берендеев» [цит. по: Бакаев http]. Берендеями изначально считали кочевой народ тюркского происхождения, называвшийся в летописях то «торками», то «черными клобуками». О неустановленности этимологии названия этого малоизвестного народа писал и М. Фасмер: «берендеи — тюркское кочевое племя в Южной Руси, в 1097 г. заключившее союз с печенегами, в 1105 г. побежденное половцами и исчезнувшее в XIII в. Это название еще не получило надежной этимологии» [Фасмер 1986: 155].
Нередко берендеев относили к простым разбойникам. Например, в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона читаем: «Первоначально, когда они были независимы, они занимались исключительно грабежами и набегами на Русь…». Но замечено, что с появлением половцев образ жизни берендеев значительно меняется: «Теснимые половцами, они отступают к южным пределам тогдашней Руси и испрашивают позволения поселиться на окраинах Переславского и Киевского княжеств с обязательством защищать их от набегов степняков. Русские князья не могли, конечно, не согласиться на такую даровую защиту их пограничных владений, и Б., поселившись в Поросье и Верхнем Побужье, мало-помалу привыкли к оседлости и к городской жизни и по крайней мере в XII в. могут уже назыв. полуоседлым народом» [Брокгауз, Ефрон 1891: 525].
К объяснению природы этого древнего народа обращается и В. И. Даль, толкуя слово «берендейка»: «берендейками» называли в торговле игрушки, людей, животных, которые вырезали из дерева «в Троицкой Лавре, в 50 верстах от села Берендеева». От этого слова образовалось слово «берендеить» — «берендейки строгать, заниматься пустяками, игрушками» [Даль 1981: 83]. Но более интересным представляется объяснение В. И. Далем слова «берендить» — «мешать, препятствовать, спорить, перечить». Именно данное значение могло повлиять на возникновение названия Берендеева царства, которое отличалось неуступчивостью и самостоятельностью.
А. М. Бакаев полагает, что в основе этого древнего топонима лежит слово «медведь» (бер) и «деять» (делать) — т. е. «бером деянные» («люди-медведи»). И, соответственно, тотемом данного славянского племени был медведь. Неслучайно Берендей зачастую толковался непосредственно как языческий бог, покровитель лесов, рек, родников [Бакаев http].
Так или иначе, большинство исследователей сходится в том, что берендеи — это обособленное славянское поселение, оставившее о себе память не только в топониме, но и в красивых легендах и преданиях. Обратимся к некоторым из них, которые были собраны краеведами В. И. Лествициным, М. И. Смирновым, В. Ф. Вороновым, А. М. Бакаевым и др.
Краевед В. Ф. Воронов в очерке «Загадки царства Берендея» приводит тексты двух местных преданий. Первое из них рассказывает о появлении «каменной бабы», которая вот уже несколько столетий стоит на берегу болота в районе деревни Черницыно. Согласно преданию, это окаменевшая царица Рогнеда:
«Царь Берендей любил по вечерам на озеро ходить. Вечерние лучи солнца скользили по глади озера. Царь ждал, когда взойдет луна и зальет окрестность холодным призрачным светом. И вдруг Берендей услышал чарующую музыку. В расплескавшихся волнах увидел царь красавицу-русалку. Заманила она Берендея в подводное царство, и волны поглотили Берендея. Царица Рогнеда забеспокоилась, побежала к озеру, стала кликать супруга, но болото только ответило ей эхом: «Берендей! Дей-ей-ей!». Так и осталась она с маленьким сыном в тереме. Но тоска одолела царицу, и пошла она опять на озеро. По-женски всплакнула и запричитала: «Муженек ты мой ненаглядный! Что ж ты словечка жене своей сказать не хочешь?». От тоски и горя превратилась Рогнеда в каменное изваяние женщины, каких немало в степях на пути следования кочевых тюрков» [цит. по: Бакаев http].
Второе предание дает следующее представление о Берендее и связанных с ним событиях:
Большое число сказаний связано с таинственным Берендеевым болотом. Особое место в народных преданиях занимает Волчья гора, по выражению В. Ф. Воронова — «самое унылое и страшное место на Берендеевом болоте». По одной из версий, здесь некогда «было большое поселение с бойкой торговлей» [цит. по: Бакаев http]. Поэтому на берегах Берендеева болота и возвышенности рядом с ним, Волчьей горе, многие пытались отыскать сокровища. И во время этих поисков в дремучем лесу обнаруживались хорошо утрамбованные площадки, мусорные и деревянные мостовые, свидетельствующие о древних поселениях. Поиском поселения на высокой горе исследователи заинтересовались еще в конце XVIII века. А в 1820 году сюда отправился Д. И. Хвостов и обнаружил здесь земляные укрепления древнего города.
В последствии, уже в XX веке, на этом болоте при разработке торфяника было открыто более 20-ти археологических памятников 10–5 тысячелетия до н. э. По свидетельству А. М. Бакаева, на месте Волчьей горы (которая стала археологическим памятником) археологи и краеведы обнаружили множество древних артефактов, культовых предметов с изображением славянских символов, зооморфные фигурки (в т. ч. изображение морды зверя, похожего на медведя), изображение человека. Все фигурки были найдены на окраине Волчьей горы, именно там, где местные жители чаще всего обозначали место нахождения «каменной бабы». Это привело к предположению, что «каменная баба» была центральной фигурой языческого капища одного из племен, которое и дало название огромному болоту — Берендеево.
Поэтому неслучайно предания о происхождении названия «Берендеево болото» тесно связаны не только с историями о берендеях, но и с историями о «каменной бабе». Краевед М. И. Смирнов записал воспоминания учительницы А. П. Лавровой одного из сел (Лаврово), расположенного на берегу Берендеева болота:
«Вдова Марья управляла здешним городом в незапамятные времена после царя Берендея, когда на месте болота было озеро. Горожане были народ буйный и справляться с ними было нелегко. Вся надежда была на подрастающего сына, в котором мать души не чаяла. Вот сын её стал подрастать и становиться помощником матери. Раз он пошёл на озеро купаться и утонул. Горю матери не было границ. Она поднимает на ноги всех рыбаков и снаряжает их ловить труп сына. Но напрасно. Поймать его не могли. Марья с горя проклинает озеро: «Чтоб тебя мохом подёрнуло», — сказала она, а в то время слово проклятия имело страшную силу. Озеро не по дням, а по часам начинает зарастать болотной травой, и вот в конце концов на месте озера получилось Берендеево болото. Но за это бог наказал вдову Марью. Лишь только она произнесла слова проклятия и озеро стало зарастать, сама превратилась в «каменную бабу». Сын её утопленник за грех матери мучается до сих пор; тело его не гниёт, а плавает под болотным покровом и старается выйти на поверхность земли. Для этого толкается в него головой, но напрасно. Слой болотной земли только поднимается и получаются кочки. Вместе с этим утопленником такую же муку терпят убийцы царевича Димитрия и все великие грешники. В болоте есть много «окон», каждый год появляются новые и всё на тех местах, где сидела в Иванову ночь (накануне Ивана Купала) нечисть поганая и думу думала, как бы люд крещёный донять и как бы вред ему причинить» [Смирнов 2004: 21].
Возникновение «весенней сказки» «Снегурочка» в творчестве Островского напрямую связано с его путешествием в имение Щелыково, по дороге к которому драматург на несколько дней задержался в Переславле-Залесском. Там он изучал местный говор, фольклор, тогда же мог услышать и о Берендеевом болоте, легенды и предания о древнем народе. Обычаи, традиции местных жителей и природа края — все это повлияло на поэтический замысел драматурга. В результате Островский напишет о своем впечатлении о Щелыкове: «Каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб речки — очаровательны, каждая мужицкая физиономия значительна и всё это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. Здесь всё вопиёт о воспроизведении…».
В «Снегурочке» Островский не ставил перед собой задачи решения вопроса о конкретно-исторической форме социально-политического устройства совершенного государства. Жизнь царства берендеев показана автором с точки зрения народных представлений об идеальном обществе. С позиции народных идеалов драматург раскрывает основные истоки справедливой и счастливой жизни. В «весенней сказке» Островский дает эпическую картину жизни народа, его национальный характер, вводит философский подтекст, который придает содержанию сказки общечеловеческий смысл. Царь Берендей выступает не только хранителем мира-спокойствия, но и всего миропорядка. Законам мироустройства соответствуют строгие нравственные законы берендеевского бытия, отраженные в словах царя:
Чем же и свет стоит?
Правдой и совестью
Опираясь в создании образа мира царства Берендея на народные традиции, обряды, предания, Островский художественно воплотил свое представление об условиях благоденствия народа, поэтически обобщенный идеал национальной жизни.
ЛИТЕРАТУРА
REFERENCES
Видео о России и русском языке
В этом видео студенты УрГПУ рассказывают о России, русском языке, пословицах, диалектизмах, опрос о сокращениях
Снегурочка и Берендеево царство в пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»
Урок 27. Русская литература 8 класс ФГОС
В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам
Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.
Получите невероятные возможности
Конспект урока «Снегурочка и Берендеево царство в пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»»
Сегодня на уроке мы:
1. Поговорим о пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка».
2. Рассмотрим образы основных персонажей пьесы.
3. Узнаем, какие чувства владели героями пьесы и к чему это привело.
Пьеса «Снегурочка» задумывалась как феерия на основе фольклора.
Необходим был бы сюжет, который объединил музыку, игру актёров и красочное представление.
Действительно, Островский соединил народные сказки, песни, предания и легенды в красочное полотно.
В пьесе действуют живые люди и силы природы, животные и персонажи фольклора. Все они наделены своими характерами, привычками. Взаимоотношения героев пьесы и являются главным в сюжете сказки.
Действие происходит в царстве берендеев. Это благословенный край: люди здесь живут по законам совести и чести. Они чтут солнце-Ярилу и стараются не прогневать его. Для них важна красота во всем – в природе, в людях, в песнях и плясках, в поступках. Царь Берендей так говорит о своём народе:
Не станет он; трудиться, так трудиться,
Взглянув на вас разумным оком, скажешь,
Что вы народ честной и добрый; ибо
Лишь добрые и честные способны
Так громко петь и так плясать отважно.
Правда, они иногда «воруют понемногу», но это такая малость, что их «ловить труда не стоит». Зла от них не много.
Во всяком случае, так было раньше, а теперь тот же царь с горечью замечает:
В сердцах людей заметил я остуду
Немалую; горячности любовной
Не вижу я давно у берендеев.
Исчезло в них служенье красоте;
А видятся совсем другие страсти:
Тщеславие, к чужим нарядам зависть
Царь Берендей – истинный отец своего народа. Он заботится о нем. Видя печальные изменения в людях, он даже ночью думает о том, как помочь горю, как вернуть былое благоденствие:
Не вижу я его давно в народе,
Пятнадцать лет не вижу. Наше лето
Короткое, год от году короче
Туманные, сырые, точно осень,
В чем же причина всех бед? Берендей пытается понять это.
Пятнадцать лет не кажется Ярило
На наш призыв, когда, встречая Солнце,
В великий день Ярилин, мы напрасно
Тьмотысячной толпой к нему взываем
И песнями его величье славим.
Сердит на нас Ярило.
И царь прав: причина действительно в том, что между собой спорят боги: Мороз и Ярила-Солнце. Причина же – Весна, жена Ярилы. Вернее, её дочь от Мороза.
Снегурочка – дочь Мороза и Весны. Мать хочет, чтобы дочь пошла к людям, ведь
Милей всего. Ни терем твой точёный,
Ни соболи, бобры, ни рукавчики
Строченные не дороги; на мысли
У девушки Снегурочки другое:
С людьми пожить; подружки нужны ей
Весёлые да игры до полночи,
Весенние гулянки да горелки
Мороз, напротив, желает оградить дочь от всякого общения с людьми, удержать ее в ледяном тереме:
Волну пряди, бобровою опушкой
Тулупчик свой и шапки обшивай.
Строчи пестрей оленьи рукавички.
Грибы суши, бруснику да морошку
Про зимнюю бесхлебницу готовь;
От скуки пой, пляши, коль есть охота,
Но вот Снегурочка среди людей.
В этом мире далеко не всё так хорошо, как ей казалось, когда она тайно наблюдала за жизнью берендеев из леса. Её приёмные родители ленивы и жадны, мечтают только о богатстве, сытости-пьянстве и нарядах. Подруги ревнивы и завистливы, обижены за то, что парни поголовно влюблены в Снегурочку.
А сама Снегурочка не может понять этих чувств:
Моя беда, что ласки нет во мне.
Толкуют все, что есть любовь на свете,
Что девушке любви не миновать;
А я любви не знаю; что за слово
«Сердечный друг» и что такое «милый»,
Вообще сердце Снегурочки не ледяное, оно не знает только любви. Остальные чувства Снегурочке доступны. Она жалеет своих приёмных родителей, хоть прекрасно видит и понимает их недостатки. Она завидует отчасти Купаве, делящейся с ней своими любовными секретами. Ей приятны ухаживания Леля и, напротив, страшна и даже противна бурная страсть Мизгиря, его попытки подкупить её.
Себе оставь; недорого ценю я
Свою любовь, но продавать не стану:
Сменяюсь я любовью на любовь,
Но не с тобой, Мизгирь.
Сердце Снегурочки живое, оно болит от того, что знает пока «мучительную ревность, любви ещё не зная», оно хочет любить.
Снегурочка умоляет Весну:
Любви прошу, любви девичьей!
И только выпросив у матери умение любить, Снегурочка начинает жить по-настоящему. Для неё изменился весь мир:
Ах, мама, что со мной? Какой красою
Зелёный лес оделся! Берегами
И озером нельзя налюбоваться.
Теперь ей дорог и Мизгирь, на него выплёскивает Снегурочка переполняющую её любовь.
С н е г у р о ч к а
О нет, Мизгирь, не страхом
Полна душа моя. Какая прелесть
В речах твоих! Какая смелость взора!
Высокого чела отважный вид
И гордая осанка привлекают,
Стыдливое и робкое. С любовью
Снегурочки трепещущая грудь
К твоей груди прижмется.
И даже собственная гибель не печалит девушку, ведь она всё же почувствовала настоящую любовь.
Какой восторг! Какая чувств истома!
О Мать-Весна, благодарю за радость,
За сладкий дар любви! …
От сладких чувств любви!
Таково отношение к любви Снегурочки, то есть той, которая узнала ее впервые. А как относятся к любви берендеи? Посмотрим на Купаву.
Персонаж пьесы носит это имя не напрасно.
Купава в славянской мифологии супруга бога Купалы, бога очищения, вожделения, любви, брачных пар. Так может ли девушка с таким именем быть тихой, скромной, прячущей от всех свою любовь?
Купава – полная противоположность Снегурочке. Она вся – порыв страсти, нежности и не желает скрывать своей любви, своей радости:
Снегурочка, а я-то как счастлива!
От радости и места не найду,
Вот так бы я ко всякому на шею
И кинулась, про радость рассказала.
И сама она не скрывает, что любила без оглядки, отдаваясь чувству всей душой:
Близких и сродников,
Знаю да помню лишь
И столь же горяча в ее оскорбленном сердце ненависть к обманщику:
Обижено, разбито сердце им;
Лишь ненависть к нему до гроба будет
В груди моей. Не надо мне его.
Купава не может жить без любви.
Она не просто благодарна Лелю за спасение, но переносит на него всю свою любовь, горячую, страстную, открытую.
Насилу я нашла тебя, желанный,
Сердечный друг, голубчик сизокрылый!
У ног лежать, голубчик сизокрылый,
У ног лежать должна Купава.
Мани меня, когда ласкать захочешь,
Гони и бей, коль ласка надоест.
Без жалобы отстану, только взглядом
Слезящимся скажу тебе, что я, мол,
Приду опять, когда поманишь.
Но кто же такой Лель? Обычный ли пастух носит такое имя?
В начале сказки мы видим Леля беззаботным красавцем. Он славится своей красотой и пением. Он беден, пасёт в слободе коров, но нисколько не тяготится своей бедностью. И даже то, что не все хотят взять его на постой, его не только не огорчает, но и вызывает в его душе гордость. Ведь не берут его из-за красоты, боясь, что женщины этого дома не устоят перед юным красавцем.
Лель весел, он всегда с молодёжью, участвует во всех её забавах. На праздниках он – главный запевала. Беззаботный, легкомысленный Лель впервые познает печаль, полюбив Снегурочку. Их первый разговор напоминает беседу говорящих на разных языках: она не понимает, как может Лель так дешёво ценить свои песни, а ему не понять, почему Снегурочка так серьёзно относится к его пению.
Не платы жду. Мальчонка-пастушонка
Убогого за песню приголубят
Поласковей, когда и поцелуют.
С н е г у р о ч к а
За поцелуй поешь ты песни? Разве
Так дорог он? При встрече, при прощанье
Такие же слова: «прощай» и «здравствуй»!
Лель – сама молодость, веселье, и ему скучно с красивой, но холодной Снегурочкой. Ему ближе давние подружки, которым ничего не нужно объяснять.
Вон, видишь, ждут меня и ручкой манят.
Побегаем, пошутим, посмеёмся,
Пошепчемся у тына под шумок,
От матушек сердитых потихоньку.
Он жаждет любви горячей, открытой, бурной:
Лелю не детская любовь нужна.
Поэтому он остается с Купавой, которая готова идти за ним, по ее собственным словам, как собачка.
В Снегурочке Леля прельстила красота, но очень быстро его влечение остыло, потому что красота эта холодная, чуждая Лелю и его чарам не поддаётся.
Теперь посмотрим на Мизгиря. Его имя в каком-то смысле тоже говорящее.
Мизгирём в народных сказках именуют паука. Оплетая своими сетями ветки и травы, он ловит беззаботных мошек, мотыльков, мух и губит их. Таков и Мизгирь у Островского.
Отецкий сын, по имени Мизгирь,
Торговый гость из царского посада.
Он все привык покупать или брать силой:
До сей поры она (душа) любви страданий,
Утехи лишь известны ей; а сердце
Приказывать привыкло, не молило,
Доселе я не плакал
Рукой манил девиц делить любовь
И золото бросал за ласки.
Впервые он ощущает любовь, увидев Снегурочку. И то это скорее не любовь, а страсть, вспыхнувшая неожиданно и ярко. Снегурочка не похожа на прочих девушек посада:
Опушены стыдливые глаза,
Ресницами покрыты; лишь украдкой
Мелькнёт сквозь них молящий нежно взор.
Снегурочка не поддаётся ни на мольбы и горячие признания, ни на богатые подарки, и это только подогревает в чувство Мизгиря:
Сломился я под гнетом жгучей страсти
И слезы лью. Смотри, колена клонит
Перед девчонкой гордый человек.
Люби меня, Снегурочка! Дарами
Бесценными красу твою осыплю
И тогда, когда Снегурочка, забыв робость, оглушенная незнакомым ей чувством любви, ласкается к Мизгирю, он показывает, «кто в доме хозяин»:
Привыкла ты владеть, привыкла тешить
Угодами обычай прихотливый.
И приказать умею: оставайся!
Жизнь Мизгиря – это подчинение своим капризам и душевным порывам. Только погубив Снегурочку желанием покрасоваться перед всеми, Мизгирь понимает, что он натворил, хоть и здесь винит богов.
Таким же порывом, каким он добивался взаимности Снегурочки, Мизгирь обрывает свою жизнь.
Любовь и страх в её душе боролись,
От света дня бежать она молила.
Как вешний снег растаяла она.
Снегурочка, обманщица не ты:
Обманут я богами; это шутка
Жестокая судьбы. Но если боги
Сказка Островского, как и всякая сказка, «ложь, да в ней намёк»: любовь нельзя украсть, купить, подделать. Любовь всегда требует чистоты, правды, искренности, доверия.
Островский в своём произведении показал всевозможные оттенки любви:
— легкомысленная влюблённость Леля;
— горячая потребность Купавы любить хоть кого-то;
— любовь как сила, преображающая мир, – для Снегурочки.
Однако есть ли в пьесе место для искреннего, чистого, постоянного, самоотверженного чувства?
Обернёмся и ещё раз посмотрим на основных персонажей пьесы:
— Чувства Леля мгновенны, изменчивы, непостоянны и легковесны.
— Купава мгновенно «переключается» с Мизгиря на Леля.
— Мизгирь испытывает к Снегурочке страсть, схожую с жаждой обладания.
— Весна заигрывает с Морозом шутки ради (могла ли она подарить своей дочери настоящее чувство?).
— Чувство Снегурочки схоже с восторгом и обращено на первого встречного.
Мы уже говорили о том, что в царстве берендеев далеко не все идеально: здесь есть и бедность, и зависть, и вражда. Но, возможно, причина в самих берендеях?
В сущности, они живут единым днём, порывом, внешней красотой и внешними чувствами. Любая скорбь для берендеев – беда.
Они не склонны даже к обычному человеческому сочувствию.
Снегурочки печальная кончина.
И страшная погибель Мизгиря.
Тревожить нас не могут.
Царь Берендей рисуется мудрым правителем и добрым человеком. Он радуется, что Ярило перестал гневаться на его народ из-за Снегурочки. Но ведь Мизгирь был человеком, берендеем.
И в этом случае беспечальность остальных берендеев граничит с жестокостью.
А тяга только к веселью и только к теплу Солнца – с отсутствием нравственных законов и милосердия.
Почти в каждом исследовании об этой пьесе Островского можно встретить такие строки.
Так ли это на самом деле? Решать только вам.