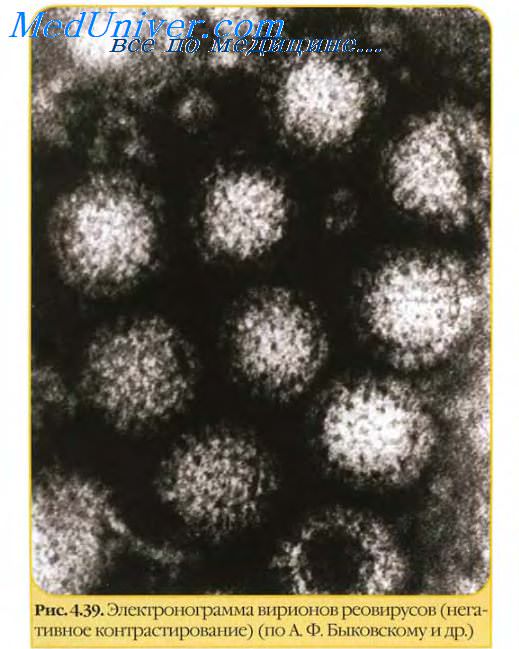Как выращивают вирусы в лаборатории
Как выращивают вирусы в лаборатории
Развитие специфической профилактики инфекционных заболеваний человека и животных создало необходимость разработки методов массового получения вирусного сырья.
В течение многих лет заражение животных оставалось единственным методом культивирования вирусов, что служило серьезным препятствием для получения высококачественных вирусных вакцин и в достаточном количестве. До сих пор не удалось культивировать in vitro некоторые вирусы (папилломы человека и др.).
Использование куриных эмбрионов — важный шаг на пути разработки вирусных вакцин. В силу высокой производительности и отличного накопления некоторых вирусов этот метод не потерял своей актуальности. Его и сейчас с успехом применяют для изготовления вакцин против ряда заболеваний человека и животных.
Большое накопление некоторых вирусов в организме составляет серьезную конкуренцию методам их размножения в клеточных культурах. Это, прежде всего, относится к вирусу гепатита В, который накапливается в плазме крови человека в высоком титре (1012—1013 частиц/мл) и является прекрасным источником вирусного антигена для приготовления инактивированной вакцины.
Другим примером может служить вирус миелобластоза птиц, который при экспериментальном заражении цыплят накапливается в плазме крови в титре 5х10 12 вирусных частиц/мл и является хорошим источником препаративного получения ре-вертазы.
Значительные успехи в области выращивания вирусов животных вне организма прежде всего связаны с открытием возможности выращивания полиовируса в экстраневральных тканях (Эндерс и сотр., 1949) и усовершенствованием метода тканевых культур (Дульбекко и др., 1952). Этому в огромной степени способствовало также открытие антибиотиков и создание синтетических и полусинтетических питательных сред. Указанные достижения обеспечили возможность обновить методы получения ранее существовавших препаратов и создать новые эффективные вакцины против ряда вирусных болезней.
В производстве вирусных препаратов широкое применение нашли первичные культуры и линии клеток. Для приготовления живых и инактивированных вакцин человека, а также животных, часто используют вирус, выращенный в первичных культурах клеток животных. В последнее время инактивированные вакцины, предназначенные для вакцинации людей, все чаще готовят с использованием клеточных линий. Для некоторых вакцин, применяемых в животноводческой практике, вирус выращивают в культурах постоянных клеточных линий. Перспектива использования постоянных линий клеток особенно заманчива в плане крупномасштабного суспензионного культивирования.
Выбор метода получения вирусного сырья в каждом конкретном случае определяется специфическими требованиями, предъявляемыми к готовому препарату.
Получение большого количества вирусного сырья с выраженной антигенной активностью особенно необходимо для инактивированных вакцин. Изготовление некоторых из них, применяемых в животноводческой практике, достигло огромных масштабов. С точки зрения технологии крупномасштабного производства вирусных препаратов, метод культивирования вируса должен основываться на потреблении доступных, недорогих, максимально стандартизированных клеточных субстратов и питательных сред, обеспечивать достаточное накопление вируса или вирусного антигена и иметь высокую производительность.
В настоящее время разработаны и широко применяются методы производственного выращивания ряда вирусов человека и животных с целью изготовления вирусных препаратов. Однако, учитывая исключительную практическую важность исследований и разработок в этой области, они постоянно направлены на поиски новых принципов и технологических решений.
Как и зачем создают искусственные вирусы, и может ли пандемия COVID-19 быть делом рук биотеррористов?
Что такое вирус?
Вирус — структура простая. Настолько простая, что ученые до сих пор не могут понять, можно ли отнести вирусы к формам жизни. Если описывать очень упрощенно, то вирус — это нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), упакованная в белковую капсулу. Тем не менее, эта примитивная биоконструкция очень хорошо приспособилась к нашему миру. Для обеспечения собственного существования и размножения коварные невидимые патогены используют клетки более крупных организмов: от бактерий до человека.
Жизненный цикл вируса тоже недалеко ушел от «украл-выпил-в тюрьму»: проникновение в клетку, встраивание собственной ДНК в геном «хозяина», синтез вирусных частиц, выход из клетки в поисках нового дома. Для того, чтобы существовать в подобном режиме, много генов не нужно: например, бактериофаг Qβ, заражающий бактерии кишечной палочки, имеет всего лишь три. Они кодируют, соответственно, три белка: протеин защитной оболочки, лизисный белок, который помогает проникнуть в клетку, и полимеразу — фермент для копирования нуклеиновой кислоты. Если понадобится что-нибудь еще, это предоставит зараженный организм.
Воссоздать вирус в лаборатории долгое время было непростой задачей для ученых, но они с этим справились. Впервые это произошло еще 18 лет назад, в 2002 году, а творцами первого «рукотворного вируса» стали ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук под руководством Экарда Виммера. Им удалось сконструировать вирус полиомиелита.
Сначала исследователи из небольших олигонуклеотидов (коротких фрагментов РНК) собрали полный геном полиовируса, состоящую из 7500 нуклеотидов. На тот момент это было мощным достижением, хотя в масштабе вирусов — не так уж и много. Например, у ВИЧ около 10 тысяч нуклеотидов, у возбудителя лихорадки Эбола — 19 тысяч, а у коронавируса SARS-CoV-2 (того самого, который вызвал пандемию инфекции COVID-19) — 30 тысяч.
Полученную нуклеиновую кислоту ученые поместили в клеточный экстракт — «выпотрошенные» клетки, от которых оставили лишь цитоплазму и клеточные оболочки. Когда концентрация вирусной РНК в этом экстракте достигла критической массы, нуклеиновая кислота свернулась в нормальную трехмерную форму, и синтетический вирус ожил.
Зачем делать вирусы
Хотя вирусы в нашем сознании неразрывно связаны с болезнями, с их помощью можно некоторые заболевания лечить. Например, так называемые аденоассоциированные вирусы используются для лечения болезни Альцгеймера: в основе такой терапии также используются векторные технологии. Наконец, гибридные вирусы со сниженной патогенностью можно использовать для вакцинации. Клетки, зараженные модифицированными в лаборатории патогенами, экспрессируют на своей поверхности белки. А уже на них реагируют иммунные клетки — при этом вызывать полноценную инфекцию такой полувирус-полувакцина неспособен.
Конечно, для научных целей искусственные вирусы тоже используются. В первую очередь для того, чтобы понимать поведение опасных патогенов и знать их слабые места. Эта категория синтетических патогенов опаснее остальных, и ее изучение проходит в лабораториях с особыми мерами предосторожности: толстые стены, строгая система допусков, сложная схема соблюдения стерильности.
Коронавирус — идеальный объект для биотеррористов
Создание искусственного вируса — процесс трудоемкий и дорогой, но при наличии соответствующего образования и оборудования вполне реальный. А с учетом наработанной научной базы создать вирус можно довольно быстро. Группе Винера для создания полиовируса понадобилось три года. Но спустя год после этого в Институте альтернативных биологических источников энергии смогли всего лишь за две недели собрать способный к размножению бактериофаг φX174 с геномом длиной 5400 нуклеотидов.
С точки зрения потенциального террориста коронавирус — едва ли не идеальный объект для создания биологической бомбы. Он передается воздушно-капельным путем, это очень «удобно». У него много генов — а чем объемнее вирусный геном, тем больше у него возможностей отвечать на защитные механизмы хозяина и уходить от них при помощи различных мутаций. А еще SARS-CoV-2 способен подавлять иммунную систему зараженного на первых стадиях развития инфекции, за счет чего обладает длительным инкубационным периодом, и распознать зараженного сразу почти невозможно. Благодаря этому он может довольно долго «кошмарить» человеческую популяцию, не устраивая при этом поголовный мор.
Однако создать четко избирательный к определенной расе или определенному типу людей вирус попросту невозможно. Все же у людей на Земле в биохимическом плане гораздо больше общих черт, нежели различий. А значит так или иначе, от потенциального киллервируса никто не застрахован.
Домыслы и гипотезы
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью», — гласит так называемая «бритва Хэнлона». Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 вполне могла быть творением рук человеческих — но не по злому умыслу, а из-за халатности. Дело в том, что в Ухане, где все началось, находится Институт вирусологии при Академии наук. Одна из лабораторий этого учреждения имеет высший, четвертый уровень биобезопасности, а значит, в ней могут проводиться работы с особо опасными и экзотическими штаммами патогенов.
Когда эпидемия еще не стала пандемией, в СМИ уже просочилась версия о том, что все происходящее — результат работ по созданию особых боевых вирусов. Кто именно придумал такую версию, неизвестно: но точно можно назвать тех, кто способствовал ее популяризации. Страшилка о биологическом оружии распространилась благодаря израильскому специалисту по безопасности Дани Шохаму, который в интервью американскому сайту Washington Times заявил о том, что некоторые лаборатории в Ухане, возможно, вовлечены в разработку подобных патогенов. Но никаких доказательств Шохам не привел, и вообще высказывался обтекаемо. Тем не менее, мировые СМИ проигнорировать вкусный инфоповод не смогли.
Еще один «как-бы-повод» для утверждений о связи коронавируса с военными разработками — история про выдворение из Канады китаянки Цю Сяньго, работавшей в Национальной микробиологической лаборатории в Виннипеге. Это учреждение, как и упомянутая лаборатория в Ухане, имеет высший уровень безопасности; а Цю Сяньго не просто лаборант-эмигрант, а видный вирусолог и специалист по лихорадке Эбола. Вместе с Сяньго из страны выдворили и ее мужа: при этом точной информации о том, что же такого нарушили китайские специалисты, в лаборатории никто так и не предоставил.
Немного позже из канадской лаборатории в Китай были переданы несколько штаммов опасных вирусов. Сочетание этих разрозненных фактов родило в умах конспирологов теорию о том, что Сяньго с супругом работали над созданием киллервирусов для нужд Китая и, возможно, на определенном этапе попытались воспрепятствовать зловещим планам. Доказательств, как всегда, толком нет — что не мешает зловеще предполагать.
Простое объяснение
Однако самое просто объяснение случившемуся укладывается в два слова: shit happens (фигня случается — прим.ред). Конечно, когда происходящее выходит за все рамки и нарушает нормальное течение жизни в городе и стране, нам подсознательно хочется найти кого-то злокозненного, из-за кого все сломалось. Однако разгоревшаяся пандемия — вполне логичный результат природных процессов и особенностей жизни в Китае.
Наиболее логичным и вероятным первоисточником коронавируса SARS-CoV-2 является городской рынок в Ухане, а «нулевым пациентом» — какой-то местный житель, решивший полакомиться мясом летучей мыши. Что по этому поводу думают ученые? А они ведь о подобном предупреждали, причем давно. Исследователи из того же Уханьского института вирусологии под руководством Ши Чжэньли еще в 2017 году писали о том, что рукокрылые являются природным резервуаром вируса, который при минимальных мутациях может перекинуться на человека. А несколькими годами ранее ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл при помощи китайских коллег даже показали, как это может произойти. Исследователи создали химерный вирус из RsSHC014 (вируса летучих мышей) и SARS-CoV (возбудителя уже подзабытой атипичной пневмонии). Получившийся гибрид очень активно заражал культуры клеток человека.
Впрочем, ученые — люди сомневающиеся, и гипотезу об искусственном возникновении вируса решили проверить, об этом подробно рассказывается в статье Science Daily. Выводы, несколько дней назад опубликованные в Nature Medicine, однозначны: «мы можем твердо установить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — говорит Кристиан Андерсен, сотрудник Научно-исследовательского института Скриппса в и один из авторов работы. По мнению исследователей, это можно увидеть из молекулярной структуры вирусных белков. Если бы гипотетические биотеррористы решили создать вирус-убийцу, они бы взяли за основу какой-то из вирусов человека, с уже доказанной вирулентностью.
Но «молекулярный остов» SARS-CoV-2 отличается от коронавирусов, циркулирующих среди людей, и больше напоминает патогены угадайте кого? Верно, летучих мышей. Кроме того, на натуральную эволюцию указывает структура так называемых RBD-доменов вирусных белков (они отвечают за связывание вируса с атакуемой клеткой). «Эти особенности вируса исключают лабораторные манипуляции как версию появления SARS-CoV-2», — резюмирует Андерсен.
Поэтому нынешняя пандемия вполне предсказуема даже без измышлений о сверхсекретных разработках и патогенах-убийцах. Настоящая жизнь всегда больше похожа на фильмы братьев Коэнов, чем на пафосные фильмы-катастрофы — источником больших бед чаще всего является безвестный недотепа, а не хорошо подготовленные специалисты.
Вирусы из пробирки
Активно разрабатываемые в секретных лабораториях вирусы-убийцы – это постоянная тема для спекуляций среди сторонников теорий заговоров. На самом же деле вирусы уже очень давно изучаются в лабораториях, и никакой тайны в этом нет. ПостНаука попросила вирусолога Сергея Альховского рассказать о том, можно ли клонировать вирус или создать его с нуля, какие технологии для этого доступны, а также об угрозах, которые вирусы сулят человечеству.
В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины и Уханьского института вирусологии сообщили о том, что искусственно создали гибридный вариант коронавируса, получивший кодовое имя SHC014-MA15. Исследования показали, что он способен инфицировать эпителий дыхательных путей человека, а также вызывать пневмонию у мышей. Часть ученых раскритиковала эксперимент, ведь проведенные опыты дали очень мало для понимания вирусов, но создали при этом потенциальную угрозу для человечества в случае утечки из лаборатории. Другие исследователи, наоборот, указывали на то, что такие эксперименты проводятся постоянно, а апокалиптические сценарии, часто будоражащие общественность, ни разу не воплощались в жизнь.
Скорее всего, эта история забылась бы довольно быстро, если бы не роковая случайность. В конце 2019 года в китайском Ухане неожиданно произошла вспышка нового типа коронавируса SARS-CoV-2, и через несколько месяцев она переросла в пандемию. События развивались очень стремительно и на фоне недостатка информации о вирусе обрастали теориями заговора. Многие их сторонники предполагали, что настолько быстро распространяющаяся угроза просто не могла возникнуть естественным путем, а значит, вирус является искусственной разработкой, напрямую связанной с SHC014-MA15.
На самом деле SARS-CoV-2 – это не какое-то уникальное в природе явление. Это один из множества коронавирусов, которые давно циркулируют в человеческой популяции. Впервые один из них, HCoV-B814, был выявлен еще в 1965 году, и с тех пор удалось установить, что до 15–20% всех простудных инфекций вызваны именно коронавирусами. Кроме того, коронавирусы уже успели продемонстрировать, что обычной простудой они не ограничиваются. SARS-CoV, известный как атипичная пневмония, вызывал локальные эпидемии в странах Дальнего Востока: общее число зараженных к концу июля 2003 года достигло 8096 человек, 774 из них погибли. Если этот вирус с тех пор больше не заражал людей в естественной среде обитания, то ближневосточный респираторный синдром, известный как MERS и также возбуждаемый коронавирусом, до сих пор диагностируется в количестве до десятка случаев в год.
Другой столп теорий заговора о вирусах – это вера в невероятное могущество современной науки, способной к безграничным манипуляциям с генетическим кодом. Правда, однако, состоит в том, что с текущим уровнем знаний у вирусологии больше вопросов, чем ответов.
Что ученым точно известно о вирусах?
Вирусы открыли достаточно поздно, а единственным возможным возбудителем болезней долгое время считались бактерии. Только в 90-е годы XIX века ученые Дмитрий Ивановский и Мартин Бейеринк независимо друг от друга показали, что экстракт больного растения сохраняет инфицирующие свойства, даже если удалить из него все бактерии. Это напрямую свидетельствовало о наличии какого-то крошечного инфекционного агента, который до этого не удавалось обнаружить. Бейеринк назвал их вирусами. Окончательно подтвердить их существование получилось в 1939 году вместе с первой фотографией вируса, которую сделали с помощью электронного микроскопа.
Сегодня мы точно знаем, что в самом простом виде вирус – это особым образом сформированная нуклеиновая кислота, в форме РНК или ДНК, и находящаяся в капсиде – белковой оболочке. Вирус нельзя однозначно назвать живым, поскольку он способен функционировать, только оказавшись в другом организме. Когда вирус попадает в клетку, он инфицирует ее, распаковывается и начинает свою жизнедеятельность. В клетке его РНК или ДНК распознается клеточными рибосомами, и с их помощью запускается синтез вирусных белков. Как только синтезировалось достаточное количество белков, вирусная РНК-полимераза (ответственная за копирование генома, то есть структуры РНК) начинает вырабатывать много копий вирусного генетического материала. Копия РНК упаковывается в капсид, выходит из клетки и отправляется в другую – и процесс повторяется сначала.
Структуры вирусов бывают очень разными. Коронавирусы, к примеру, обладают одной из самых «длинных» РНК, их геном состоит из 28 тысяч нуклеотидов. Большинство же вирусов «укладываются» в 5–10 тысяч. Последовательность нуклеотидов каждого отдельного образца вируса того или иного вида складывается в определенный генотип, который напрямую определяет его биологические свойства, то есть фенотип, – например, способность заражать не только летучих мышей, но и человека.
И все же, SARS-CoV-2 – результат межвидовой мутации, которая оказалась на редкость успешной (для вируса). Поэтому сегодня ученые не спускают глаз с вирусов и постоянно ищут, какой из них может спровоцировать начало новой пандемии.
Где искать вирусы?
Человеческая деятельность – один из ключевых факторов, который влияет на мутацию вирусов. Все вирусы человека – это бывшие вирусы животных, которые в определенный момент мутировали и приобрели возможность инфицировать людей. ВИЧ, вирусы гепатита, вирусы гриппа – бывшие зоонозы. Эти переходы возникают из-за непрестанного и неизбежного контакта между человеком, живой природой и населяющими ее вирусами, поскольку такое взаимодействие создает для вирусов эволюционные стимулы для заражения людей.
В некоторых сферах деятельности люди особенно сильно рискуют подхватить заразу от животных. В сельском хозяйстве постоянно приходится иметь дело с грызунами – стабильным источником хантавируса, возбуждающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). В России ежегодно выявляется 10–12 тысяч случаев этой тяжелой инфекции. Но, помимо этого хантавируса и множества других, в природном резервуаре грызунов живет еще десяток видов вирусов. Нет совершенно никаких гарантий, что однажды из этого многообразия не появится вариант, способный заражать людей. Точно такая же ситуация произошла и с SARS-CoV-2. Подковоносые летучие мыши – носители большого количества совершенно безопасных для человека коронавирусов. Однако в процессе постоянной эволюции всегда может неожиданно возникнуть вариант, который приобретет способность инфицировать человека. А заразив одного человека, вирус неизбежно выплеснется в человеческую популяцию.
Далеко не всегда прогресс как-то позволяет нам противостоять этому процессу. Наоборот, зачастую он только способствует возникновению новых заболеваний вирусной природы. Люди все более интенсивно вторгаются в те природные зоны, где до этого их не было. Пример – клещевой энцефалит. До 20-х годов XIX века о таком заболевании не слышали вовсе. Проблемы начались по мере освоения Дальнего Востока и Сибири: как только туда начали съезжаться люди, появились первые эпидемические вспышки. Сегодня мы вынуждены прививаться от энцефалита каждый раз, когда собираемся в поход.
Другой аналогичный пример – вирус Эбола, впервые обнаруженный в 70-е годы XX века. Его переносят летучие лисицы, крылановые, которые являлись для него единственным природным резервуаром на протяжении 10–20 тысяч лет. Люди по мере освоения территорий рядом с ареалом обитания крыланов расчищали джунгли и создавали на их месте плантации с фруктовыми деревьями. Фруктоядные крыланы слетались туда за пищей, а из-за неестественного для них избытка продовольствия их популяции разрастались до огромных стай. Все это сильно увеличивало вероятность контакта человека с продуктами жизнедеятельности крыланов (слюной, кровью, фекалиями), а значит, и с вирусом.
Изучением и отслеживанием таких угроз занимается экология вирусов. Это попытка понять, с чем мы вообще живем, с чем контактируем, и выяснить, какие вирусы мы в принципе можем обнаружить в природных резервуарах, а если точнее – понять закономерности распространения вирусов в зависимости от природно-климатических условий местности и взаимодействий представителей ее флоры и фауны. Конечная же практическая цель – научиться контролировать процесс распространения вирусов.
Одна из основных задач современной экологии вирусов – установить общее количество вирусов, которые могут покинуть текущий ареал распространения и перейти в человеческую популяцию. По предварительным оценкам, таких вирусов может насчитываться до 400 тысяч.
Сегодня, однако, люди находятся довольно далеко от достижения этой цели. Мы не знаем полного разнообразия вирусов и не понимаем, как устроены механизмы их мутаций, из-за которых постоянно появляются варианты вирусов с измененными свойствами.
Вирусы под микроскопом
Экология вирусов – это во многом «полевая» дисциплина, связанная с изучением свойств конкретной среды. Непосредственным же изучением строения вирусов занимается другой ключевой раздел вирусологии – молекулярная биология вирусов. Сама по себе молекулярная биология изучает гораздо более широкий набор объектов и проблем, но исследование вирусов играет в ней особую роль. Вирусы представляют собой очень удобную модель, на которой просто проводить исследования. В 1960–1970-е годы именно бактериофаги, вирусы бактерий, позволили открыть принципы, по которым происходит репликация (копирование) ДНК в клетке.
Изучение различий между вариантами одного и того же вируса, механизмы проникновения вирусов в клетку, развитие иммунного ответа – все это актуальные темы для молекулярной биологии вирусов. Эта область неразрывно связана и с медицинской вирусологией – непосредственным изучением случаев заражения вирусами, развития инфекции, ее лечения.
На самом деле больше всего интереса у ученых вызывает геном вирусов: именно он определяет их свойства, а вместе с ними и принципы воздействия на живые организмы. Гарантированно определить функцию каждого участка РНК или ДНК вируса можно, сравнив оригинальный образец вируса с его модифицированной версией. Для этого создают молекулярный клон – копию вируса, в которую вносят изменения и которую затем сравнивают с оригиналом.
Посмотрев на два очень похожих вируса, один из которых может инфицировать определенный тип клеток, а другой – нет, как понять, какие именно элементы в структуре поверхностных белков отвечают за это? Необходимо сравнить их геномы и искать в них различия. Если получается обнаружить разницу в структурах ДНК или РНК, которые кодируют 2 или 3 аминокислоты, то можно точно сказать, что именно эта особенность задает свойства одного вируса, отсутствующие у другого. Например, у SARS-CoV-2 есть мутации, которые отвечают за способность поверхностного S-белка («шипа короны») связываться с рецептором клетки. Это и позволило ему заражать людей.
До 2000-х годов исследования были серьезно ограничены техническими возможностями. Приходилось проводить очень объемную полевую и лабораторную работу, чтобы обнаружить возбудителя какой-либо инфекции. Нужно было ехать в экспедицию, собирать материалы – к примеру, получить фрагмент тканей человека, предположительно погибшего от вируса. Затем добавить его к искусственно созданным клеткам, а после выделить чистую культуру вируса, свободного от посторонних элементов в образце. Это не всегда удавалось сделать быстро, поскольку клетки могли и не подвергнуться заражению, – нужно было еще время, чтобы понять условия, в которых происходит инфицирование.
Из-за этого к 2000 году всего лишь 1500–2000 вирусов были изучены достаточно хорошо. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Появились технологии полногеномного секвенирования (Next-Generation Sequence), которые позволили «прочитать» с помощью специально подготовленного устройства (секвенатора) сразу несколько участков генома единовременно, а значит, получить информацию обо всех геномах, находящихся в изучаемом образце с вирусами. Благодаря этой технологии можно опустить этап выделения чистой культуры вируса и напрямую перейти к анализу его генома. Сейчас ученые секвенируют, например, сточные или океанские воды и могут найти несколько тысяч новых вирусов только в рамках одного исследования – а таких исследований сотни и тысячи.
Можно ли создать новый вирус в лаборатории?
Изучение и работа с геномами вирусов сегодня вышли на новый уровень, и это во многом подогревает страх публики перед лабораторными исследованиями. Однако уровень развития современной науки задает четко очерченные границы возможного и невозможного.
Абсолютно все серьезные вирусологи отрицательно относятся к гипотезе об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2. Еще во время эпидемии SARS-1 в 2002 году было установлено, что этот вирус пришел в человеческую популяцию от летучих мышей. В пещерах Юньнани, где обнаружили десятки коронавирусов, были найдены и такие их варианты, у которых определенные позиции в структуре генома совпадали с SARS-1 и SARS-2. Так что нет никакой фантастики в том, что однажды пазл сложился и эти вирусы выплеснулись в человеческую популяцию.
К сожалению или к счастью, это не означает, что невозможно создать опасный вирус в лаборатории. В 2012 году было опубликовано резонансное исследование «Передача вируса гриппа A/H5N1 воздушным путем между хорьками», связанное с исследованиями вируса птичьего гриппа – H5N1. Некоторые его разновидности очень патогенны, а их летальность составляет порядка 60–70%. Людей от этой угрозы спасает то, что H5N1 можно заразиться только при тесном контакте с очень высокой инфицирующей дозой вируса, поэтому и заражаются птичьим гриппом в подавляющем большинстве случаев работники фабрик, например, при разделке больной птицы. Такие опасные формы гриппа, как правило, способны инфицировать человека только через нижние дыхательные пути. Однако всего лишь несколько сравнительно небольших мутаций могут изменить ситуацию.
Рон Фушье, ученый из Университета Эразма в Нидерландах, долгое время занимался исследованиями передачи вируса H5N1 от животного к животному. Он заражал вирусом птичьего гриппа одного хорька, забирал у него мазок и этим мазком заражал следующего хорька. Каждый раз вирус незначительно мутировал: его свойства менялись при передаче от одного животного к другому. После десятой передачи вируса через мазок Фушье заметил, что заражаться начали и те хорьки, которые сидели в соседних клетках с уже больными, без участия ученого. В написанной в 2011 году статье Фушье сделал вывод о том, что всего пять мутаций могут придать вирусу птичьего гриппа H5N1 свойства серьезного пандемического вируса, передающегося воздушно-капельным путем.
Эта статья была отправлена в Science и Nature, авторитетные научные журналы. Разразился масштабный скандал. С одной стороны, многие обвинили Фушье в том, что его эксперименты проводились в недостаточно безопасных условиях, где потенциально могла произойти утечка. С другой же – многие восприняли предложенную к публикации статью как инструкцию по созданию вируса-убийцы, которую собираются разместить в открытом доступе. После давления научного сообщества было решено, что такие статьи должны публиковаться только с частичным сокрытием информации, чтобы никто не мог повторить результаты исследования со злым умыслом.
Складывается следующая картина: создание нового вируса с нуля при текущем уровне развития технологий невозможно – попросту не получится придумать и расположить в верном порядке 28 тысяч нуклеотидов, чтобы получить SARS-CoV-2 искусственным путем. Однако вполне реально внести незначительные модификации в геном хорошо изученных вирусов.
Геном вируса – это последовательность нуклеотидов. Если эта последовательность известна, то можно синтезировать ее химическим способом. Поэтому если удалось создать молекулярный клон какого-то вируса, то значит, что уже существует шаблон, который можно легко модифицировать за сравнительно небольшие для такой задачи деньги – всего около 100 тысяч долларов.
И все же нет предварительного рецепта, по которому можно модифицировать вирус. Фушье не рассчитал необходимые компоненты для изменения H5N1, он получил их опытным путем. Именно поэтому без предварительного эксперимента серьезные модификации вируса невозможны.
Существует разница и в степени изученности различных вирусов. С одной стороны, есть огромный пласт работ с разными подтипами вируса гриппа, с другой – относительно коронавирусов аналогичных данных собрано гораздо меньше. Для SARS-CoV-2 пока еще не удалось получить молекулярный клон. Поэтому просто невозможно представить себе способ, для того чтобы каким-либо образом серьезно его модифицировать. Новости о том, что ученые из Сиены улучшили коронавирус так, что он стал невосприимчив к стандартным антителам, – очень большое преувеличение. Исследование проводилось с помощью вирусоподобных частиц, в которые внедрялись определенные белки. Это ценная работа, но не стоит делать из нее неправильные выводы.
Теория об искусственном создании SARS-CoV-2 не выдерживает критики. Однако разворачивающаяся на планете пандемия все же может иметь лабораторное происхождение. Никогда нельзя исключать возможность банальной утечки.
Может ли вирус «сбежать» из лаборатории?
Современные требования к безопасности работы с вирусами очень строги. В 1960–1970-х годах действительно имели место случаи лабораторного заражения, к примеру заражения через вентиляцию. Сегодня же технологии позволяют удержать вирус в лаборатории, даже если утечка все же случится.
Лаборатория, которая работает с патогенными микроорганизмами, делает это в соответствии с очень строгими нормами. Внутри обязательно должны быть «чистые» зоны для сотрудников и «заразные» зоны, где ведется вся работа над вирусами. Сама лаборатория располагается либо в отдельном корпусе здания, либо же вообще в отдельном здании, в зависимости от опасности хранящихся в ней вирусов. Двери и окна герметичны, а системы вентиляции оборудованы особыми фильтрами, изготовленными из тонких, сложенных гармошкой стеклопластиковых волокон, где в случае утечки оседают частицы, которые нужно удержать. Все манипуляции с вирусами проводят в специальных ламинарных вытяжных шкафах с осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха, а также в боксах биологической безопасности. Боксы защищают сотрудников от заражения, а ламинарные шкафы в первую очередь создают стерильные условия для самих вирусов.
Все вирусы в зависимости от опасности для человека делятся на четыре группы. Четвертая (в классификации ВОЗ – первая; в России принят обратный порядок отчисления) – самая безопасная, в нее входят штаммы микроорганизмов, которые не способны инфицировать человека, либо вызывающие легкие заболевания: вирус эктромелии, энтеровирусы типов 68–71, вирус оспы коров и другие. К третьей категории относят вирусы, вызывающие заболевания средней степени тяжести: простые герпесы первого и второго типов, вирус Эпштейна – Барр. Во вторую группу включают опасные вирусы, способные вызвать заболевания с риском летального исхода: клещевой энцефалит, ВИЧ, желтая лихорадка, гепатит C и другие.
Наконец, первая группа вирусов – это геморрагические лихорадки, оспа, вирусы Эбола и Марбург. Это самая опасная категория. В России есть только два центра, которые имеют право работать с этими вирусами: центр «Вектор» в Новосибирске и военный институт в Сергиевом Посаде. Здесь персонал переодевается перед входом в лабораторию, а после обязательно принимает душ, одежду полностью обеззараживают. Производственное оборудование в лабораториях изолировано от других помещений, есть дополнительные системы вентиляции и уничтожения отходов.
С некоторыми вирусами работают в разных условиях в зависимости от типа исследований. SARS-CoV-2 отнесен ко II группе. Но когда речь идет об опытах, не связанных с накоплением вируса (размножением в клетках), SARS-CoV-2, как и другие такие вирусы, рассматривается как вирус III категории. Однако все процедуры по обеспечению безопасности сохраняются и в этом случае.
Интересно, что в лабораториях до сих пор хранятся запасы вирусов, с которыми человечество уже давно справилось, например вируса оспы. С одной стороны, оспой не болели с 1979 года. Стоит ли хранить ее образцы, ведь, несмотря на все меры безопасности, исключать фактор банальной человеческой ошибки нельзя?
С другой стороны, нет гарантий того, что однажды оспа не вернется к человеку по исключительно естественным причинам. Оспой болеют овцы, козы и ближайшие к нам эволюционно, то есть обезьяны. Поэтому даже сейчас есть необходимость держать старые запасы на всякий случай: вдруг нам понадобится срочно создать вакцину?
Об авторе: Сергей Альховский – доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии.